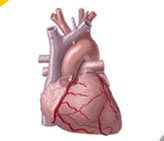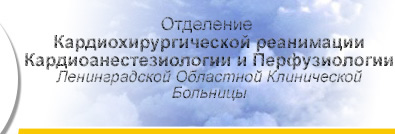52-х летний пациент, без сердечной патологии в анамнезе, госпитализирован в муниципальную больницу с жалобами на боли груди, которые сопровождались повышением креатинфосфокиназы до 1300 международных единиц, однако изменений на ЭКГ не обнаружилось. Двумя днями позже во время тредмил теста у пациента при низком уровне нагрузки отмечена депрессия сегмента ST в прекордиальных отведениях, однако, болевого синдрома в груди не отмечено. Вскоре после тредмила у пациента возникают рецидивирующие боли в груди, сопровождающиеся элевацией сегмента ST в прекордиальных отведениях. В связи с этим пациенту проводится системная тромболитическая терапия тканевым активатором плазминогена, так как заподозрена острая окклюзия левой передней нисходящей коронарной артерии. После этого пациент переведен в лабораторию катетеризации сердца с диагнозом кардиогенный шок, где ему установлен баллон для внутриаортальной контрпульсации (ВАБК). На фоне ВАБК регистрируется сердечный выброс 2.6 Л/мин, при ЧСС 130 ударов в минуту и ударном объеме 20 мл.
Коронарография показывает окклюзию левой передней нисходящей артерии, отсутствие крупных ветвей огибающей артерии и небольшие нарушения контура в правой коронарной артерии. Несмотря на то, что удается провести проводник за область поражения передней левой нисходящей и кардиолог делает несколько попыток проведения транслюминальной коронарной ангиопластики, ангиографически подтвержденный кровоток по левой передней нисходящей артерии отсутствует. К этому моменту пациент уже имеет 8-ми часовой инфаркт и продолжает ухудшаться. Кардиолог в отчаянии спрашивает – можете ли Вы шунтировать переднюю нисходящую артерию.
Решение.
Вы объясняете кардиологу, что в таких обстоятельствах операционная смертность при операциях коронарного шунтирования приближается к 100%. Более того, даже если удастся успешно шунтировать переднюю нисходящую артерию, этот шунт вероятнее всего не будет перфузировать переднюю стенку вследствие феномена «не восстановления кровотока» (no-reflow). Вы убеждаете кардиолога и семью пациента организовать перевод пациента в университетский центр для проведения процедуры, которая по Вашему мнению является единственным шансом на спасение: установка устройства вспомогательного кровообращения для левого желудочка и последующая трансплантация сердца. Хотя потребовалось интубировать пациента как раз перед транспортировкой в машине скорой помощи, его успешно доставили в центр.
В операционной развивается фибрилляция желудочков, но одновременно со стернотомией, поэтому каннюляция выполнена на фоне открытого массажа сердца. Передняя стенка отечна и цианотична. Выполнено венозное шунтирование передней нисходящей коронарной артерии, однако, не удалось отключить аппарат искусственного кровообращения, несмотря на применение контролируемой реперфузии с кардиоплегией, обогащенной глутамат-аспартатом. Пациенту установлено центрифужное устройство вспомогательного кровообращения для левого желудочка, которое поддерживает его кровообращение в течение 4-х дней. К этому времени подобрано донорское сердце и проведена успешная трансплантация. Пациент покидает госпиталь через 9 дней и остается здравствующим при контакте через 4 года.
Обсуждение.
Реперфузия миокарда является гораздо более сложным вопросом, чем просто быстрое восстановление кровотока через закрытую артерию. Многочисленные исследователи показали, что кислородные свободные радикалы оказывают выраженное повреждающее действие на клеточные и субклеточные структуры в процессе ишемии с последующей реперфузией. Это приводит к развитию дисфункции миоцитов, а также к отеку и набуханию эндотелия сосудов, что и вызывает феномен «не восстановления кровотока». Известные терапевтические меры, применяемые для предотвращения или уменьшения степени образования свободных радикалов, такие как лейкофильтрация во время искусственного кровообращения, введение лидокаина для подавления активации лейкоцитов, ингибирование образования супероксида введением ингибитора ксантин оксидазы аллопуринола, и ингибирование катализируемого ионом железа распада перекиси водорода с образованием гидроксильных ионов, в настоящее время проходят интенсивные лабораторные и клинические исследования. Также, активно изучают субстанции – уборщики свободных радикалов, такие как супероксид дисмутаза, каталаза, пероксидаза и восстановленный глутатион.
Этот пациент испытывал ишемию в течение более 2-х дней, что в итоге завершилось развитием инфаркта миокарда и кардиогенного шока длительностью около 8-ми часов. По данным вентрикулографии можно было сделать заключение о том, что имеется выраженный отек миокарда. Степень отека миокарда напрямую коррелирует со степенью активации гранулоцитов в ишемизированном сегменте. Несмотря на то, что реперфузия кровью, обедненной лейкоцитами, приводит к ограничению степени отека в заинтересованных сегментах, снижению выраженности феномена «не восстановления кровотока», уменьшению размера инфаркта, в данной конкретной ситуации существовала высокая вероятность того, что любая попытка экстренной изолированной реваскуляризации несет в себе высочайший риск неудачи. В связи с этим необходимо было иметь в арсенале наиболее современные методы поддержки кровообращения и, в том числе, возможность трансплантации сердца.
Наиболее частые показания к механической поддержке кровообращения включают желудочковую недостаточность после операции на сердце, кардиогенный шок вследствие инфаркта миокарда и острое отторжение трансплантата сердца. Около 70% таких ситуаций могут быть спасены с помощью фармакологической поддержки и внутриаортальной баллонной контрпульсации. Если же пациент сохраняет гипотензию с сердечным индексом менее 1.8 Л/мин/м2 и давлением заклинивания легочных капилляров более 25 мм рт ст, ему показана прямая поддержка желудочков с помощью моно- или бивентрикулярного устройства поддержки кровообращения.
В обзоре Miller, который оценил эффективность использования устройств поддержки желудочков у 451 пациента с кардиогенным шоком после операции на сердце за период между 1978 и 1988 годом, сообщается о том, что 45% пациентов можно было отлучить от устройств поддержки левого и правого желудочков, но только 24% из них были в конечном итоге выписаны из госпиталя, в независимости от типа использованного устройства и от того, один или оба желудочка нуждались в поддержке. Среди выписанных 2-х летняя выживаемость составила 88% у пациентов с I и II функциональным классом по классификации Нью-Йоркской Сердечной Ассоциации (NYHA), при условии, что пациенты, умершие в период 30 суток после операции были исключены из статистики; при условии их включения в статистику выживаемость составляла 47%.
Долгосрочная выживаемость значительно улучшается, если устройства поддержки желудочков используются как мост для трансплантации у пациентов, которые непосредственно являются кандидатами для трансплантации сердца, но у них на определенном этапе развивается кардиогенный шок до того, как подобран подходящий донор сердца. В серии наблюдений, обработанных Hill, из 184 таких пациентов, которые получали поддержку различными насосами, 130 человек (70%) дожили до трансплантации сердца, из которых 85 человек (46%) были выписаны из госпиталя. Эти результаты в два раза лучше результатов, опубликованных Miller, для группы пациентов у которых трансплантация сердца не проводилась. В сравнении с плановой трансплантацией, при которой 1-летняя, 5-летняя и 10-летняя выживаемость в объединенной группе из 6500 пациентов сегодня составляет 90%, 85% и 72%, соответственно, результаты трансплантации у пациентов, которые имели устройства поддержки желудочков в качестве моста для трансплантации, варьируют в зависимости от вида устройства и факторов, которые всегда осложняют течение подобных пациентов, а именно - полиорганная недостаточность, геморрагические осложнения и инфекции.